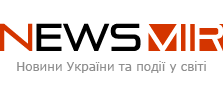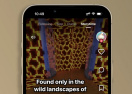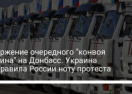Вечная мерз(л) ота

В середине 90-х гг. я готовился к устному экзамену по литературе и среди прочих должен был прочесть роман Леонида Леонова &34;Дорога на океан&34; (1935).
прочитано 15 раз
В моде у читающей молодежи тогда были Набоков, Лимонов и прочие нарушители эстетических и нравственных устоев, а не лауреаты сталинских премий; поэтому к чтению Леонова я подошел с крайней степенью небрежения. Это скептическое отношение сыграло со мной злую шутку: в тот день я остался без обеда - удовольствие чтения было сильнее, чем желание что-то съесть; так захватил меня роман Леонова. Это была проза мастера.
Главным героем &34;Дороги на океан&34; является прошедший Гражданскую войну старый большевик Курилов, в 30-е гг. работающий партийным начальником на железной дороге на востоке страны. В романе несколько сюжетных линий, но нас сейчас интересует одна - утопическая: в видениях Курилова дорога прокладывается не просто к океану, а к символу будущего - к новой стране, новому коммунистическому обществу. В этом утопическом будущем не избежать войн, но в итоге будет построен тот гармонический мир, где восторжествует новый, очищенный от всего худшего в себе, человек.
Роман &34;Вечная мерзлота&34; (2021) Виктора Ремизова работает с тем же образом - дорогой. И этот роман как бы продолжает рассказ о той же железной дороге Курилова, только здесь обещанное Куриловым будущее как бы уже наступило - это 1949 год.
Повествование начинается с того, что в поселке Ермаково на Енисее на Полярном круге по распоряжению верховного главнокомандующего Иосифа Сталина закладывается строительство железной дороги.
Однако утопия Леонова у Ремизова превратилась из прекрасной мечты в самую страшную реальность: перед нами все ужасы сталинского ГУЛАГА. Дорогу строят зэки: блатные и политические. В романе почти все герои либо зэки, либо вертухаи, либо стукачи и сотрудники НКВД, либо вольные, которые скоро сядут, либо это родственники уже сидевших. Все дышат отравленным воздухом ГУЛАГ. В принципе эта дорога лишена малейшего экономического смысла: она ведет в никуда - у нее нет цели. Вернее, цель есть, даже две: одна - художественная, авторская, - провести по ней всех героев книги, и вторая - антихудожественная, реальная, - создать для людей ад на земле.
Роман густонаселен различными персонажами, но главных героев два. Сан Саныч Белов - молодой, честный и наивный капитан енисейского парохода, чуть ли не на первой странице романа поднимающий тосты - &34;За Сталина!&34;. Он - из тех героев литературы, которым дано в силу возраста разочароваться. Счастье - это всегда иллюзия? Ремизов медленно и дотошно, шаг за шагом показывает нам, как Белов утрачивает иллюзии: ему придется пройти через предательство, малодушие, боль, невозможность создать семью со ссыльной француженкой, избиения и унижения, когда садисты в форме будут опорожнять свои мочевые пузыри ему на голову, лагерь и бессмысленный, отупляющий труд на запредельном холоде. &34;Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!&34;
Второй герой романа - Георгий Горчаков, ровесник века, крупный ученый-геолог и по совместительству зэка уже с 10-летним стажем. Он в некотором смысле антагонист Белова: Горчакова, старого лагерника, ничто уже на этой грешной не удивляет, он ни в кого и ни во что не верит. По старой лагерной традиции - &34;Не верь! не бойся! не проси!&34; Эта не потеря иллюзий, как у Белова, не абсолютное обесчувствование, но холодное и спокойное понимание того, что в этом мире разлито Зло и ничего другого в нем быть не может. Это богооставленность: нет любви и нет доброты, нет нежности и радости. И нет будущего, потому как твой срок отсидки должен закончиться в 70-е гг. Но Ремизов оставляет своему герою единственную черту, которая делает человека человеком и отличает его от животного - совесть. Он дает ему совестливую душу и ту профессию, которая так сродна такой душе: фельдшера на зэковской больничке.
Интонационно Ремизов спокоен - повествование развивается медленно, без скачков, постепенно сгущая смысл: сцена идет за сценой, одна деталь нанизывается на другую, а северные пейзажи автор раскатывает на несколько страниц. Но эта спокойная стилистическая манера резко контрастирует с теми черными картинами, которые рисует нам автор романа. Именно на этом художественном приеме и строит Ремизов тот эффект, который позволяет быстро отправить читателя в нокдаун. И если говорить откуда - из какой шинели вышел Ремизов, то, конечно, из шинели Михаила Шолохова. &34;Свирепый реализм&34;, назвал такую шолоховскую манеру письма в свое время Петр Палиевский. Когда ужас описывается как обыденность, потому что он абсолютно естественен и &34;нормален&34;, как дождь и снег, как свет солнца и звезд, скрип деревьев на ветру и детская улыбка во сне.
Вот Шолохов буднично рассказывает историю Аксиньи:
&34;Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать исступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Ввечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убился&34;.
И все, Шолохов дальше не заострят внимание читателя на этом моменте: ну было и было. Проза жизни. А вот у Ремизова: &34;Потом на нем натаскивали молодую овчарку. Разжигали злобу - пес был в приспущенном наморднике, он не мог рвать клыками, но так вцеплялся передними зубами, что его отрывали вместе с кусками одежды. Андриасу повезло, что его не убили, было бы дело зимой, так и сделали бы, а труп беглого выставили для устрашения на неделю у лагерных ворот&34;&34;. Об ужасе - походя. Короткая история еще одного зэка - ребенка.
Так, Ремизов погружает читателя во тьму, в которой все герои искалечены. Мытарства - так можно назвать это существование главных и не главных героев романа. От одного ужаса к другому, от одного душевного и физического мучения к следующему. Так и души читателей Ремизов заставляет пройти через все пытки, стать и свидетелем, и соучастником, опускает вслед за героями все ниже в ад, выступая для нас проводником по нему, как Вергилий у Данте. И к середине романа уже нет ни одной не обожженной души.
В споре об &34;опыте&34; ГУЛАГА Варлама Шаламова и Александра Солженицына Виктор Ремизов на стороне Шаламова. Если Шаламов проклинает тюрьму и зону, которая уродует нравственность любого человека, то для Солженицына тюрьма это испытание человеческой природы, где человек может явить свой высоких дух. И когда Шухов у Солженицына спокойно опускает руки в холодную воду, это вызывает гневную отповедь у Шаламова: &34;видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу&34;. Это не просто попытка Шаламова найти у Солженицына фактическую ошибку, но веский довод отказать последнему в праве на правду. Отсидевший свои последние 17 лет на Колыме Шаламов считал, что только такие как он, прошедшие все пытки ГУЛАГА, имеют право на последнее слово. Не надо мне рассказывать про шарашки Марфино, где сидел Солженицын, говорит Шаламов, это все курорт, по сравнению с Колымой и Норильском. Виктор Ремизов в своем художественном осмыслении ГУЛАГА идет за Шаламовым, у него также все на последнем пределе: лютые морозы, стынь, сучьи войны, голод до галлюцинаций и обмороков, убийства, изнасилования мужчин, женщин, собак, и такие пытки, когда выбрать смерть легче, чем выбрать эту жизнь. В один момент мне стало настолько тошно все это читать, что я не удержался и полез в конец книги, чтобы посмотреть, что же станет с героями: выживет кто-то или нет? Где он этот предел нечеловеческой низости и предел человеческому сопротивлению?
Совестливый человек на допросе боится не боли и унижения, он боится не выдержать и оклеветать других. Таких кто это выдержал, как, например, герой войны генерал Горбатов мало. Не помню у кого из наших историков я вычитал, что только 36 человек из всего репрессированного комсостава не дали показания на других. Машина государственного террора практически никому не дала возможность остаться человеком. Вот Белов в камере задается вопросом, зачем заставлять меня что-то подписывать, если могли и так мою подпись сами за меня поставить? Нормальный человек Белов просто не понимает степени изуверства: чтобы ты сам оклеветал других и стал соучастником преступления, предал не только товарищей и друзей, но в первую очередь все человеческое в себе. Обесчеловечивание. Опыт по обесчеловечениванию, который проводит над страной Левиафан в лице Иосифа Сталина. В романе Сталина почти нет, но он стоит за всем и всеми, его присутствие чувствуется каждым человеком, каждым растением, каждым камешком и каждой букашкой. &34;Дорогой наш Иосиф Виссарионович, наш вождь и учитель...&34;. &34;Гуталин&34; - кличка его среди зэков. Сталин в романе - экзистенция зла. Молох, которому приносят в жертву людей.
Но... хочется спросить: только ли для таких интерпретаций Россия дает повод? разве других людей не было тогда в России? Счастливых, добрых, веселых? Чутких и отзывчивых? Не каторжан и их охранников? Других. &34;Русский народ от природы добр и любит добро, человечен, широк в жизненном размахе&34; (А. Толстой). Не пырьевско-исаковских кубанских казаков того же 1949 года выпуска (&34;землю мы счастливую искали, землю мы счастливую нашли&34;), но людей. По Ремизову не было. То есть были, но те, кого Данте в переводе Лозинского назвал &34;ничтожными&34; (у Данте чуть-чуть другой акцент - ignavi, - бездеятельные), те, которых не брал даже ад, потому как - &34;жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел&34;. Серая бессмысленная масса. Люди-ничто. &34;Будь холоден или горяч, не будь теплым&34;. Поэтому Ремизов и не заметил их. &34;Они не стоят слов: взгляни и мимо&34;, говорит о них Вергилий в &34;Божественной комедии&34;. Такие не только Вергилию, но и Ремизову как художнику неинтересны. Что ему с ними делать? Все честные люди в 1949 году либо уже сидят, либо скоро сядут, и, к сожалению, данная истина работает для Ремизова и наоборот: если ты не сидишь, значит ты бесчестный.
Поэтому вечная мерзлота и мерзота, по Ремизову, синоним не только ада, но и России. Россия - как дорога в никуда. Бесцельная и жестокая! Россия, по Ремизову, это вечный холод, убивающий любое тепло. А если и приходят сюда летние деньки, то это ненадолго, как лето на Полярном круге: скорее подразнит, чем согреет. И если тебя освободили, то это случайность, ошибка во времени и пространстве. Но все же... есть ли у России другой путь, другая дорога, кроме вот этой - от поселка Ермаково прямиком в ад?! &34;И мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...&34;.
Масштаб художника определяется не столько исполнительским мастерством, которого у Ремизова с избытком, но тем бесстрашием, с которым он задает проклятые вопросы и ищет на них ответы. В &34;Вечной мерзлоте&34; это бесстрашие есть. У художника своя правда и именно за его правдой мы к нему и приходим. Мы можем соглашаться или не соглашаться с Ремизовым, это вопрос личный. Но не можем не признать, что &34;Вечная мерзлота&34; сильнейшее в последнее время напоминание для нашей в общем-то сытно-комфортной жизни, что достаточно одного дуновения холодного осеннего ветра и Енисей или Волга или Амур опять потащат баржи каторжан, как это было и при Иване Грозном, и при Петре, и при Сталине. Да, после прочтения может появиться искус (или слабость?) увидеть Россию только такой, зачастую ища подтверждение своим историческим или политическим взглядам, но Россия разная. Как любое большое явление. И мы помним об этом.